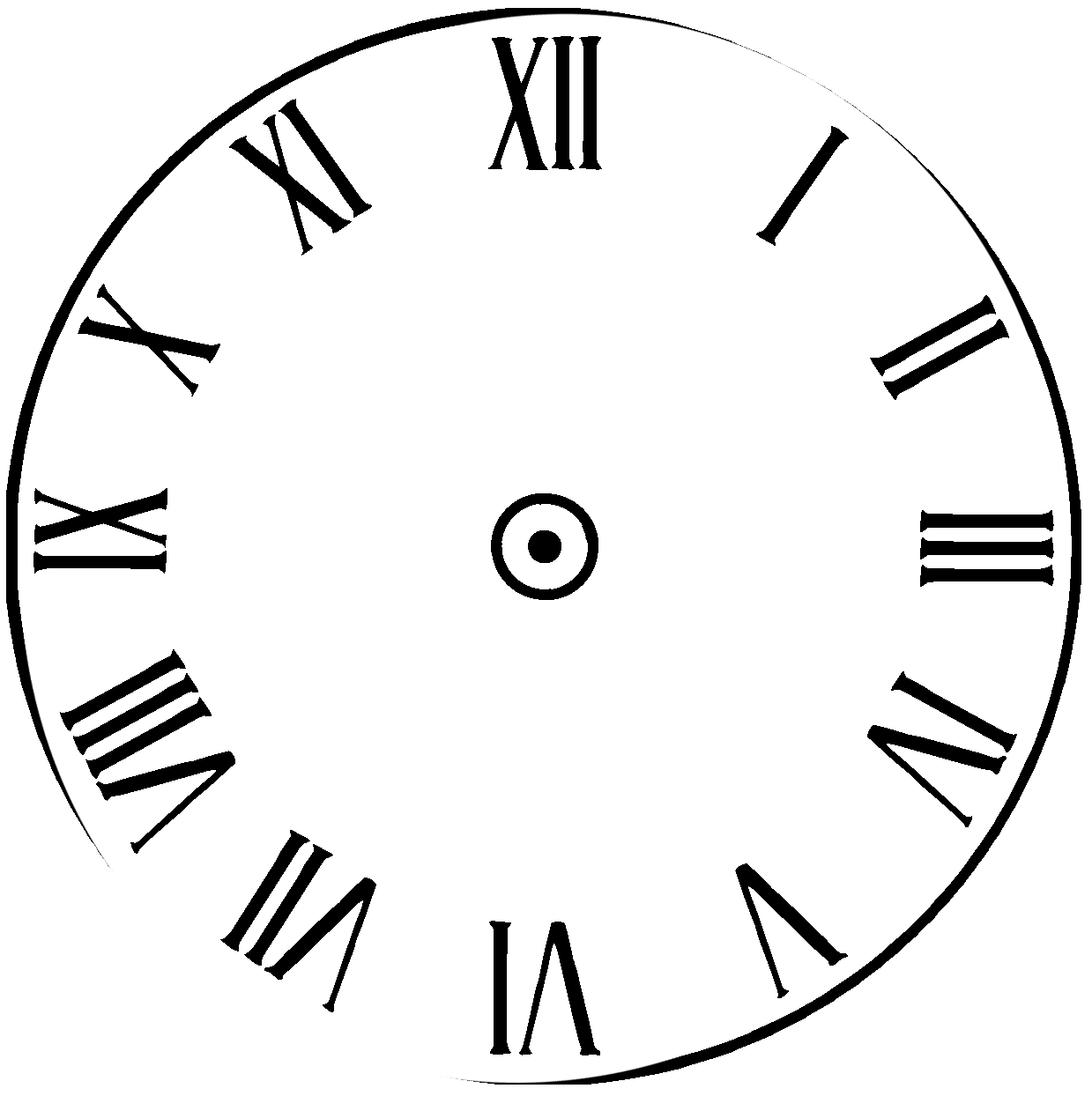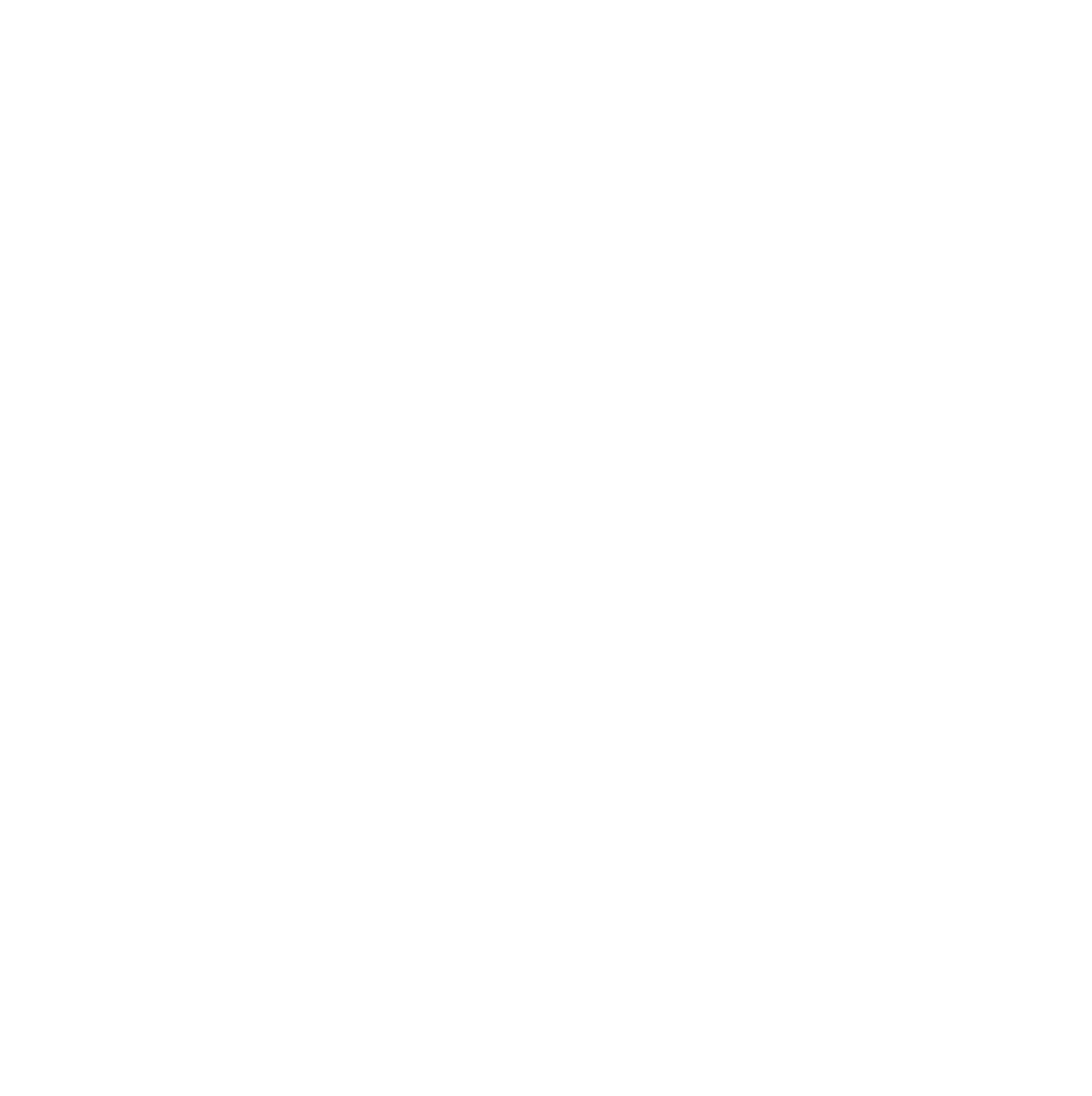Семейство Кожевниковых
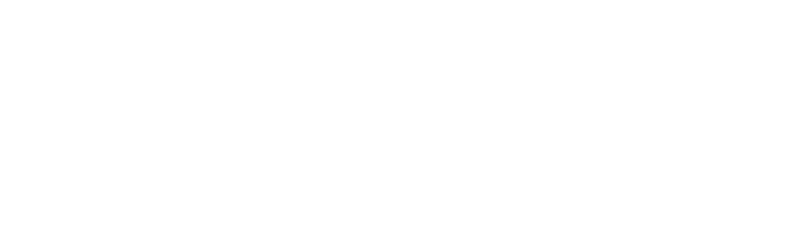
Подпись А. Ф. Кожевникова
В 1849 году самарский мещанин Андрей Фролович Кожевников (1813 – 15.07.1904) с женой и сыновьями – 12-летним Иваном, 11-летним Никитой и 8-летним Прохором – самовольно занял выгонную землю за чертой Самары на будущей Петропавловской площади. Освоение горожанами этой территории, известной тогда как урочище Малый Бугор, ещё только начиналось. В 1839 году мещанином Кузьмой Терентьевичем Лебедевым по соседству был разбит фруктовый сад. С другой стороны всё ещё простирались дикие рощи, густые дубравы, огромный луг с пастбищами и просёлочная дорога, расходившаяся по двум направлениям: на северо-запад, к Семейкинскому шоссе, и на северо-восток, к Оренбургскому тракту. Здесь Кожевников начал строительство дома и открыл сначала поташный завод, проработавший 46 лет, а потом паровой дрожжевинокуренный, занимался бакалеей, винной торговлей, держал питейное заведение. Там же в 1854 году родился еще один его сын, Пётр. Дела у семейства пошли на лад, и с 1858 года Андрей Фролович стал купцом III гильдии, а затем и II гильдии.
Согласно метрикам и сведениям купеческого старосты, А.Ф. Кожевников прожил долгую, но драматичную жизнь. Особенно много горя его семье принесло начало 1870-х годов, когда сначала скончалась его жена, а затем, в 1872 году, сыновья Иван в возрасте 36 лет и Пётр в возрасте 19 лет. Иван был женат, но по какой-то причине детей не имел. Никита, старший из двух выживших детей, задолго до этого посвятил себя служению церкви, став причетником, а потому не мог продолжить династию и отцовское дело. Эта ноша легла на плечи Прохора Андреевича. Ещё в 1867 году у него с женой Марьей Михайловной родилась дочь Надежда, которая умерла до 1885 года. Затем, в 1871 г. родилась Александра, в 1872 г. Алексей, в 1873г. Петр, в 1878 г. Анна и в 1883 г. Александр.
Согласно метрикам и сведениям купеческого старосты, А.Ф. Кожевников прожил долгую, но драматичную жизнь. Особенно много горя его семье принесло начало 1870-х годов, когда сначала скончалась его жена, а затем, в 1872 году, сыновья Иван в возрасте 36 лет и Пётр в возрасте 19 лет. Иван был женат, но по какой-то причине детей не имел. Никита, старший из двух выживших детей, задолго до этого посвятил себя служению церкви, став причетником, а потому не мог продолжить династию и отцовское дело. Эта ноша легла на плечи Прохора Андреевича. Ещё в 1867 году у него с женой Марьей Михайловной родилась дочь Надежда, которая умерла до 1885 года. Затем, в 1871 г. родилась Александра, в 1872 г. Алексей, в 1873г. Петр, в 1878 г. Анна и в 1883 г. Александр.
Дома Кожевниковых
Тем временем, в деловой сфере семейству до поры сопутствовал успех, и в руках Кожевниковых сконцентрировалось впечатляющее количество недвижимости. С середины 1870-х годов Андрей Фролович владел местом с одноэтажным деревянным домом в 118 квартале (ныне пустое место на Самарской улице, рядом домом №16 по ул. Ярмарочной), к которому купец пристроил лавки с жильем, поставил забор с воротами и возвел нежилые строения в 1879 году.
В 1878 году старший Кожевников подал прошение о возведении огромного двухэтажного дома на углу Дворянской и Воскресенской в 24 квартале (ныне угол улиц Куйбышева и Пионерской). Особняк в центре сначала перешел сыну Прохору, а затем внуку унтер-офицеру Алексею Прохоровичу Кожевникову и был продан купцу Н.Ф. Дунаеву; с 1896 года оказался в собственности Русского Торгово-Промышленного банка, а в 1899 году перестроен архитектором А.У. Зеленко.
В 1879 году А.Ф. Кожевников получил разрешение на строительство деревянного флигеля на Полевой улице в 84 квартале. Также купцы Кожевниковы имели два дома на улице Сокольничьей (ныне Ленинской), один из них на Сокольничьей, 103, и два дома на Торговой, 43 – 45 (ныне улице Маяковского).
В 1887 году купец П.А. Кожевников подал прошение о строительстве дома на Панской улице (ныне Ленинградская, 57) в 38 квартале – двухэтажного дома в 18 окон с проездом. На его дворе уже существовали кладовая, каретник, конюшня, прачечная, баня, погребица. В августе этого же года рядом со своим домом по красной линии Кожевников выстроил каменную лавку с жилым помещением. Здесь, на Панской, Прохор Кожевников с семьёй, судя по всему, и жил.
В 1887 году купец П.А. Кожевников подал прошение о строительстве дома на Панской улице (ныне Ленинградская, 57) в 38 квартале – двухэтажного дома в 18 окон с проездом. На его дворе уже существовали кладовая, каретник, конюшня, прачечная, баня, погребица. В августе этого же года рядом со своим домом по красной линии Кожевников выстроил каменную лавку с жилым помещением. Здесь, на Панской, Прохор Кожевников с семьёй, судя по всему, и жил.
Также, занимаясь винокуренным производством, Кожевниковы в разное время владели 6-8 фруктовыми садами – как захваченными самовольно в 50 – 60-х годах XIX века, так и арендованными по контракту после городской реформы 1870 года. В одном из таких садов Кожевниковы открыли курорт из 9 отдельных «семейных» дач с кухнями, конюшнями и коровниками, бесплатным бильярдом и баней, о котором мы узнаем из объявлений в «Самарской газете» 1893 года от 25 апреля и 11 мая. Этот курорт купцов Кожевниковых, вероятно, находился где-то около садов Николаевского мужского монастыря в районе современных улиц Осипенко и Ново-Садовой.
Трагедия
С очередным расширением владений Кожевниковых оказалась связана трагедия, положившая, судя по всему, начало легенде об остановившихся часах на старом доме. 18 июля 1880 года тринадцатилетняя Александра Прохоровна – внучка Андрея Фроловича Кожевникова – была «убита нечаянно половой доской на строительстве дома». А на следующий день «от нервных колик» скончалась её младшая сестра Анна в возрасте полутора лет. Ныне народная молва уверенно утверждает, что резные часы на стене родового гнезда Кожевниковых установлены в память о безвременной кончине юной купеческой дочери. Правда в легенде, речь идёт только об одной девушке, и в качестве причины смерти обычно называют чахотку.
К вопросу о том, почему и когда был установлен этот необычный памятный знак, мы вернёмся позже. Пока же попробуем разобраться, где случилось роковое происшествие. В год смерти Александры, летом 1880 года Кожевниковы вели только одно строительство. 31 мая 1880 года купеческий сын Прохор Андреевич Кожевников подал в городскую управу прошение о строительстве 2-этажного каменного дома на углу Предтеченской и Троицкой в 52 квартале (ныне угол улиц Галактионовской и Некрасовской). Было получено разрешение, началась подвозка строительных материалов и организация работ. Ещё одним, пусть и косвенным подтверждением произошедшей в этом месте трагедии является тот факт, что строительство на этом месте было прекращено, а проект 2-этажного дома так и не был воплощен в жизнь. Сегодня на углу Галактионовской и Некрасовской стоит одноэтажное здание.
В 1881 году, вскоре после гибели девочек, Кожевниковы разделилась на два купеческих семейства. Прохор Андреевич со своей семьёй отделился от отца, взяв отдельное гильдейское свидетельство. Раздел, вероятно, не был связан с трагедией. Судя по тому, что Андрей Фролович записан крёстным отцом у родившегося в 1883 году внука Александра Прохоровича, с сыном у него остались хорошие отношения. Кроме Александра до совершеннолетия дожили ещё двое из детей Прохора Андреевича – сыновья Алексей (1872 г. р.) и Пётр (1873). Можно предположить, что на фоне постигших его семью несчастий Андрей Фролович искал утешения в религии. С 1881 по 1886 годы он числился старостой при Петропавловской церкви и входил в число её попечителей.
К вопросу о том, почему и когда был установлен этот необычный памятный знак, мы вернёмся позже. Пока же попробуем разобраться, где случилось роковое происшествие. В год смерти Александры, летом 1880 года Кожевниковы вели только одно строительство. 31 мая 1880 года купеческий сын Прохор Андреевич Кожевников подал в городскую управу прошение о строительстве 2-этажного каменного дома на углу Предтеченской и Троицкой в 52 квартале (ныне угол улиц Галактионовской и Некрасовской). Было получено разрешение, началась подвозка строительных материалов и организация работ. Ещё одним, пусть и косвенным подтверждением произошедшей в этом месте трагедии является тот факт, что строительство на этом месте было прекращено, а проект 2-этажного дома так и не был воплощен в жизнь. Сегодня на углу Галактионовской и Некрасовской стоит одноэтажное здание.
В 1881 году, вскоре после гибели девочек, Кожевниковы разделилась на два купеческих семейства. Прохор Андреевич со своей семьёй отделился от отца, взяв отдельное гильдейское свидетельство. Раздел, вероятно, не был связан с трагедией. Судя по тому, что Андрей Фролович записан крёстным отцом у родившегося в 1883 году внука Александра Прохоровича, с сыном у него остались хорошие отношения. Кроме Александра до совершеннолетия дожили ещё двое из детей Прохора Андреевича – сыновья Алексей (1872 г. р.) и Пётр (1873). Можно предположить, что на фоне постигших его семью несчастий Андрей Фролович искал утешения в религии. С 1881 по 1886 годы он числился старостой при Петропавловской церкви и входил в число её попечителей.
Банкротство
К концу 1880-х дела старшего Кожевникова стали приходить в упадок. В 1890 году Андрей и Прохор Кожевниковы продали два сада знаменитому самарскому купцу I гильдии Антону Николаевичу Шихобалову. Также был продан один из домов на Сокольничьей. А в 1894 году была запущена процедура банкротства Андрея Фроловича Кожевникова. В «Самарской газете» от 25 марта 1894 года было опубликовано объявление конкурсного управления под председательством П.А. Тихомирова по делам несостоятельного купца А.Ф. Кожевникова о продаже с публичных торгов всего движимого имущества в доме на Петропавловской площади – экипажей, мебели, посуды, цветов, инструментов... В 1895 году все дворовое место с постройками на Петропавловской площади (ныне Коммунистическая, 1 – 5) с торгов приобрёл А.Н. Шихобалов.
Причины банкротства купца А.Ф. Кожевникова, увы, нам доподлинно неизвестны, но есть предположение, что немалую роль здесь сыграло начало процесса внедрения госмонополии на производство этилового спирта и продажу винно-водочной продукции в 1893 – 1894 годах. В то время банкротились многие торговцы вином в городе Самаре, например, винно-водочный магнат Е.Н. Аннаев.
Вскоре после продажи отцовского дома, 22 декабря 1895 года, Прохор Андреевич скончался – на пятьдесят пятом году жизни. Перед смертью его разбил паралич. Затем, в 1896 году, его сыновья Алексей, Пётр и Александр Кожевниковы приобрели у мещан Выровых кожевенный завод к востоку от Колесникова оврага – вверх по реке Самаре, на Пожнях. Есть сведения, что в 1910-х годах братья также владели хлебопекарней в Куренях рядом с Солдатской слободой. Андрей Фролович пережил сына почти на девять лет. Он умер 15 июля 1904 г. в возрасте 91 года.
Причины банкротства купца А.Ф. Кожевникова, увы, нам доподлинно неизвестны, но есть предположение, что немалую роль здесь сыграло начало процесса внедрения госмонополии на производство этилового спирта и продажу винно-водочной продукции в 1893 – 1894 годах. В то время банкротились многие торговцы вином в городе Самаре, например, винно-водочный магнат Е.Н. Аннаев.
Вскоре после продажи отцовского дома, 22 декабря 1895 года, Прохор Андреевич скончался – на пятьдесят пятом году жизни. Перед смертью его разбил паралич. Затем, в 1896 году, его сыновья Алексей, Пётр и Александр Кожевниковы приобрели у мещан Выровых кожевенный завод к востоку от Колесникова оврага – вверх по реке Самаре, на Пожнях. Есть сведения, что в 1910-х годах братья также владели хлебопекарней в Куренях рядом с Солдатской слободой. Андрей Фролович пережил сына почти на девять лет. Он умер 15 июля 1904 г. в возрасте 91 года.
Епархиальная богадельня
Ещё с начала 1880-х годов в Самарской и Ставропольской епархии обсуждался вопрос об открытии богадельни для лиц духовного звания. 3 января 1886 года священник села Григорьевки и Клинцовки Николаевского уезда отец Александр Промптов в память умерших своих жены Татьяны и двух дочерей Юлии и Марии передал в Самарское попечительство о бедных духовного звания капитал в 12 700 руб., скопленный за долгую жизнь, с тем, чтобы он послужил началом к открытию богадельни для престарелых и увечных священнослужителей. Этот капитал был помещен в банк и к 1894 году с процентами составил сумму в 19 309 руб. В том же 1894 году Его Преосвященство епископ Самарский и Ставропольский на собрании духовенства предложил увековечить память Царя-Миротворца Александра III за «многие милости для духовенства» открытием богадельни для престарелых и увечных священников и их семейств. Тогда же в пользу будущей богадельни был объявлен добровольно-принудительный сбор с протоиереев и священников по 10 руб., с дьяконов по 5 руб., с псаломщиков по 3 руб. Всего собрали 12 915 руб. 15 коп. Объявили и кружечный сбор.
В мае 1897 года в очерке об истории открытия епархиальной богадельни «Самарские епархиальные ведомости» писали:
В мае 1897 года в очерке об истории открытия епархиальной богадельни «Самарские епархиальные ведомости» писали:
Благодаря энергии и опытности благочинного отца самарских городских церквей Н.И. Ласточкина в Самаре скоро был найден удобный и выгодный по своей стоимости бывший дом купцов Кожевниковых в прекрасной местности около Епархиального свечного завода. Для предварительного осмотра и окончательного решения о покупке дома под епархиальную богадельню была назначена специальная комиссия отцов Ласточкина, Третьякова и Иванова.
В итоге в 1895 году было решено купить бывшую усадьбу Кожевниковых площадью 1008 кв. саженей за 7 100 руб. у нынешнего владельца А.Н. Шихобалова. Арендная плата городу за землю поначалу оставалась прежней 60 руб. 48 коп. (6 коп. за кв. сажень) в год, пока город не пошел на уступки и 25 апреля 1903 года значительно понизил для богадельни сумму сборов до 1/4 копейки за кв. сажень, что за 1008 кв. саженей составило по 2,52 руб. в год. В усадьбе находились постройки: каменно-деревянный двухэтажный дом, где нижний каменный этаж полуподвальный (ныне Коммунистическая, 5), пластинная изба «из прекрасного соснового леса», каменное здание спичечной фабрики инженера-технолога Л.Л. Зелихмана (ныне на этом месте храм по Коммунистической, 1) и многочисленные холодные службы. Со спичечной фабрики Л.Л. Зелихмана за оставшийся срок аренды, обговоренный с прошлым владельцем Кожевниковым, до 22 мая 1903 года епархиальная богадельня планировала получить от 800 до 1300 рублей с учетом повышения арендной платы.
В своем докладе комиссия отцов Ласточкина-Третьякова-Иванова указывала: «Купленный бывший дом Кожевникова (ныне Коммунистическая, 5) вполне пригоден для богадельни; в верхнем этаже его свободно можно поместить мужское отделение (для 10 мужчин), а нижний отвести для столовой, цейхгауза и подвала; для женского же отделения необходимо заново отремонтировать пластинную избу, и тогда в ней можно будет поместить 10 женщин. На единовременный расход по первоначальному обзаведению 20 пенсионеров и на ежегодный расход по содержанию их богадельного дома потребуется сумма в 4 500 руб, которая покроется арендной платой с Зелихмана, процентами с капитала отца Промптова, капитала со сборов духовенства». Далее специальная комиссия продолжала:
Дом куплен очень дешево, выгодно, но представляет и некоторые неудобства: рядом с ним фабрика, где рабочие – всякий сброд, затем, так как дом фабрики на арендуемой земле, то при богадельне не будет возможности иметь свой отдельный храм, имеющий для призреваемых весьма важное значение со стороны религиозно-нравственной и отчасти материальной.
2 января 1896 года Епархиальная богадельня освящена епископом Гурием во имя государя императора Александра III в присутствии губернатора А.С. Брянчанинова, вице-губернатора, других официальных лиц и духовенства. Затем пили чай и делали пожертвования. Самое большое пожертвование сделал епископ Гурий – закладной с выигрышами лист Государственного Земельного банка в 100 рублей, книги религиозного содержания и две иконы Божьей Матери, именуемой «Албазинской», которые были вделаны в большие киоты и поставлены – одна в мужском доме (ныне Коммунистическая, 5), другая в женском доме внутри усадьбы богадельни.
В мае 1897 года самарские епархиальные журналисты так описывали бывшее дворовое место Кожевникова, а ныне Епархиальную богадельню:
В мае 1897 года самарские епархиальные журналисты так описывали бывшее дворовое место Кожевникова, а ныне Епархиальную богадельню:
Епархиальная богадельня находится на северо-восточной окраине Самары, на Петропавловской площади, недалеко от Епархиального свечного завода, в здоровой и сухой местности, с трех сторон окружена большими фруктовыми садами и в летнее время богадельная усадьба представляет из себя очень красивую загородную дачу, нередко останавливающую на себе любопытный взор самарского обывателя, летом обыкновенно обливающегося в городе потом от нестерпимой жары и задыхающегося от постоянных облаков пыли…
Помещением для мужчин служит каменно-деревянный двухэтажный дом, фасадом выходящий на площадь, имеющий 7 х 4 1/3 саженей, покрытый железом, обшитый тесом и выкрашенный маслеными красками, внутри дом оштукатурен, стены его выкрашены масляными и клеевыми красками, полы – масляными. Помещение этого дома – просторное, светлое, теплое, сухое, – на каждого посетителя производит весьма приятное, жизнерадостное впечатление. В верхнем этаже его: большой зал, в котором одним из призреваемых священников совершается Богослужение, а также каждодневные утренние и вечерние молитвы; сюда же собираются пенсионеры послушать книги религиозно-нравственного содержания, читаемые одним из призреваемых священников, а иногда смотрителем богадельни… В другой половине верхнего этажа помещается спальня и имеются две отдельные комнаты для больных и престарелых пенсионеров, требующих за собой особенного ухода; тут же, в отдельной комнате помещается надзирательница и хожалка. В нижнем каменном этаже – кухня и столовая; во второй половине нижнего этажа – цейхгауз и кладовая для хранения съестных припасов. Женщины помещаются в деревянном флигеле (3 х 6 саженей), находящемся во дворе; он покрыт железом, обшит тесом и выкрашен снаружи масляными красками, внутри оштукатурен; стены выкрашены клеевыми красками, полы – масляными. В нем две больших комнаты, из которых в одной находится спальня пенсионерок, а в другой – умывальня, гардеробы и помещение для хожалки. Около дома и флигеля разбиты небольшие палисадники с деревьями фруктовых и других пород. Во дворе, довольно обширном, надворные службы: амбар, погребица, сарай для склада различных вещей, дровяник, а также – колодезь и баня.
Помещением для мужчин служит каменно-деревянный двухэтажный дом, фасадом выходящий на площадь, имеющий 7 х 4 1/3 саженей, покрытый железом, обшитый тесом и выкрашенный маслеными красками, внутри дом оштукатурен, стены его выкрашены масляными и клеевыми красками, полы – масляными. Помещение этого дома – просторное, светлое, теплое, сухое, – на каждого посетителя производит весьма приятное, жизнерадостное впечатление. В верхнем этаже его: большой зал, в котором одним из призреваемых священников совершается Богослужение, а также каждодневные утренние и вечерние молитвы; сюда же собираются пенсионеры послушать книги религиозно-нравственного содержания, читаемые одним из призреваемых священников, а иногда смотрителем богадельни… В другой половине верхнего этажа помещается спальня и имеются две отдельные комнаты для больных и престарелых пенсионеров, требующих за собой особенного ухода; тут же, в отдельной комнате помещается надзирательница и хожалка. В нижнем каменном этаже – кухня и столовая; во второй половине нижнего этажа – цейхгауз и кладовая для хранения съестных припасов. Женщины помещаются в деревянном флигеле (3 х 6 саженей), находящемся во дворе; он покрыт железом, обшит тесом и выкрашен снаружи масляными красками, внутри оштукатурен; стены выкрашены клеевыми красками, полы – масляными. В нем две больших комнаты, из которых в одной находится спальня пенсионерок, а в другой – умывальня, гардеробы и помещение для хожалки. Около дома и флигеля разбиты небольшие палисадники с деревьями фруктовых и других пород. Во дворе, довольно обширном, надворные службы: амбар, погребица, сарай для склада различных вещей, дровяник, а также – колодезь и баня.
Странно, что епархиальные журналисты, досконально описывая бывший дом Кожевникова, ни словом не обмолвились о столь необычной детали фасада – деревянных часах бывшего владельца. С высоты знаний о доме Кожевникова можно предположить, что «остановившиеся» деревянные часы в простенке с инициалами АФК посвящены не умершим в далёком 1880 году внучкам хозяина, а самому владельцу особняка Андрею Фроловичу Кожевникову. Возможно, что внуки А.Ф. Кожевникова, установив часы после смерти деда в 1904 году, таким образом принесли ему дань памяти и уважения. Но... не будем плодить новые легенды и какие-то лишние смыслы. Уже факт существования дома Кожевникова с часами прекрасен и очарователен сам по себе, а в истории всегда что-то не поддается объяснению, и остается скрытым от исследователя.
Так или иначе, начальство и насельники богадельни были бы полностью удовлетворены бывшим купеческим домом, если бы картину не портила спичечная фабрика Зелихмана, находившаяся в южной части усадьбы за фруктовым садом (на месте действующего ныне храма на Коммунистической, 1).
Взаимоотношения владельца спичечной фабрики Льва Зелихмана и попечителя с пенсионерами изначально не сложились и в мае-июне 1897 года Л.Л. Зелихман переехал на новое место, а в его бывшем здании на территории богадельни летом того же года вспыхнул пожар. В октябре 1897 года было принято решение: «…обгоревший каменный дом, ранее занимаемый фабрикой Зелихмана ремонтировать и приспособить под церковь, а деревянный флигель – под приют для круглых сирот духовного звания от 4-летнего возраста до времени их поступления в учебные заведения».
Осенью – зимой 1898 года епархиальным архитектором Тадеушем Севериновичем Хилинским был составлен проект церкви-школы (ныне церковь по Коммунистической, 1). Церковь-школа при епархиальной богадельне Императора Александра III и приюте имени епископа Гурия получилась «довольно обширная, вместимостью до 800 человек, светлая, с окнами на две стороны (северо-западную и юго-восточную), с высоким полукруглым потолком. Трапезная свободно могла быть разделена раздвижными переборками для школы и еще оставалось довольно места в передней части для молящихся одновременно со школьными занятиями в задней части».
Так или иначе, начальство и насельники богадельни были бы полностью удовлетворены бывшим купеческим домом, если бы картину не портила спичечная фабрика Зелихмана, находившаяся в южной части усадьбы за фруктовым садом (на месте действующего ныне храма на Коммунистической, 1).
Взаимоотношения владельца спичечной фабрики Льва Зелихмана и попечителя с пенсионерами изначально не сложились и в мае-июне 1897 года Л.Л. Зелихман переехал на новое место, а в его бывшем здании на территории богадельни летом того же года вспыхнул пожар. В октябре 1897 года было принято решение: «…обгоревший каменный дом, ранее занимаемый фабрикой Зелихмана ремонтировать и приспособить под церковь, а деревянный флигель – под приют для круглых сирот духовного звания от 4-летнего возраста до времени их поступления в учебные заведения».
Осенью – зимой 1898 года епархиальным архитектором Тадеушем Севериновичем Хилинским был составлен проект церкви-школы (ныне церковь по Коммунистической, 1). Церковь-школа при епархиальной богадельне Императора Александра III и приюте имени епископа Гурия получилась «довольно обширная, вместимостью до 800 человек, светлая, с окнами на две стороны (северо-западную и юго-восточную), с высоким полукруглым потолком. Трапезная свободно могла быть разделена раздвижными переборками для школы и еще оставалось довольно места в передней части для молящихся одновременно со школьными занятиями в задней части».
2 января 1900 года епископ Самарский и Ставропольский Преосвященный Гурий освятил храм во имя Казанской иконы Божьей Матери. Все строительство обошлось в 12 784 руб. 17 коп. В благоустройстве церкви-школы приняли участие многие известные самарские купцы: И.М. Плешанов, Е.И. Субботина, Я.Г. Соколов, Н.П. Масленников, А.Н. Шихобалов, Н.Ф. Марков, А.Г. Курлина, Е.И. Кириллова, А.М. Неклютина, С.Г. Дьяков, М.М. Гордеев, Е.М. Шихобалова, М.А. Малышева, К.С. Оборин, Е.П. Башкирова, Р.М. Жижина, А.А. Савельев, М.П. Журавлева, В.К. Головкин, братья Петр и Павел Ивановичи Шихобаловы. После перестройки ненавистной обгоревшей спичечной фабрики Зелихмана в церковь епархиальные журналисты – священники живописали:
...Усадьба богадельная имеет вид благоустроенной дачи, невольно останавливающей на себе внимание въезжающих в город по большим (Смышляевской, Черновской и Семейкинской) дорогам... С устроением на ней церкви, усадьба эта приняла внешность малого уютного монастыря, в котором совершенно нет ослепительного блеска золота, серебра и самоцветных камней, ничего напоминающего богатство и роскошь, но есть несомненно тихая, безмятежная, церковно-провославная жизнь во всяком благочестии и чистоте, где нет ни шума, ни суеты, ни развлечений мирских, но есть жизнь благодатная и в однообразии богатая смирением и молитвою
В 1902 году к зданию церкви был пристроен новый отдельный каменный дом школы с использованием кирпича самарского завода А.Н. Родионова, а церковь с этого времени использовалась только для богослужений. К 1904 году были возведены каменные кухня и дом дьякона при церкви.
Дом с часами после Революции
После Февральской революции здание школы перешло в ведение сначала церковного прихода, а позже города. К 1919 году все здания были муниципализированы. В 1921 – 1922 в бывшей епархиальной богадельне устроили Детский Польский приют № 17 после Советско-польской войны 1920 года. В советское время в церкви Казанской иконы Божьей матери (ул. Коммунистическая, 1), перестроенной из спичечной фабрики Кана – Зелихмана, поочередно находились и клуб железной дороги, и общежитие ФЗО № 3, и спортзал, и архив областного отдела образования, а Дом с часами (ул. Коммунистическая, 5) был жилым. Его разделили на три квартиры, обитатели которых жили своей жизнью и постепенно перестраивали дом под себя: заколотили и утеплили боковую террасу, заделали некоторые окна, проложили трубу к выгребной яме и пробили под неё отверстие в фундаменте (что сыграет впоследствии роковую роль).
По материалам публикации историка и краеведа Павла Попова.
О бывшем дворовом месте А.Ф. Кожевникова со спичечными фабриками Кана и Зелихмана смотрите также статью Павла Попова в журнале «Другой город»
Пропавший памятник
В новое тысячелетие Дом с часами вошёл в статусе обыкновенного жилого здания на три квартиры. Он был включён в список список объектов культурного наследия регионального значения приказом Министерства культуры Самарской области № 13 от 29 июля 2009 года. От охраняемого статуса дом не получил никаких осязаемых мер преимуществ, и сохранял он его недолго. Спустя неполные четыре года областной Минкульт отменил своё прежнее решение «в целях приведения нормативных правовых актов министерства культуры Самарской области в соответствие с действующим законодательством» (приказ №24 от 9 июля 2013 года).
Исключению дома Кожевникова из списка региональных памятников предшествовало проведение повторной экспертизы. С этим документом много неясного. Не вполне понятно, как и почему было принято решение о её проведении, а также зачем было искать эксперта для изучения регионального памятника аж в Казани.
Давайте же взглянем на акт экспертизы за авторством Игоря Михайловича Нестеренко, на титульном листе представившегося историком и экспертом.
Ниже этот акт приведён полностью. Знакомство с ним займёт на удивление мало времени.
Исключению дома Кожевникова из списка региональных памятников предшествовало проведение повторной экспертизы. С этим документом много неясного. Не вполне понятно, как и почему было принято решение о её проведении, а также зачем было искать эксперта для изучения регионального памятника аж в Казани.
Давайте же взглянем на акт экспертизы за авторством Игоря Михайловича Нестеренко, на титульном листе представившегося историком и экспертом.
Ниже этот акт приведён полностью. Знакомство с ним займёт на удивление мало времени.
Текст занимает 4 страницы. Из них 2 - вводная часть: цель, объект, информация об исполнителе. Ещё 4 страницы - список приложений и сами приложения - распечатки фотографий. Об истории здания - одно предложение, и то неправда: «Здание богадельни было построено на территории принадлежащей епархии, в конце XIX века». Ни слова о построившем дом купце Кожевникове, его банкротстве, покупке участка Шихобаловым и, наконец, епархией - хотя всё это отражено в многочисленных документах. Затем следует скупое описание внешнего облика здания и сразу вердикт: «Историко-культурная ценность - отсутствует. Предмет охраны - отсутствует».
Об интерьере и внутренних помещениях нет ни слова. Похоже, что автор не заходил внутрь подвергаемого экспертизе здания.
Итак, на основании приведённого выше монументального 4-страничного исследования, дом Кожевникова был исключён из списка объектов культурного наследия. К счастью, это не привело, как часто бывает, к немедленной его осаде недобросовестным застройщиком. Правда, в 2015 году в городскую администрацию было подано прошение об использовании соседнего участка (по адресу ул. Коммунистическая, 3) для возведения гостиницы. Но по какой-то причине договориться с властями коммерсантам не удалось. Строительство, впрочем, было всё равно начато, но его бросили, не возведя даже первый этаж. Покинутая стройплощадка и ныне соседствует с домом Кожевникова. Следующий за ней участок (ул. Коммунистическая, 1) занимает здание церкви Казанской иконы Божьей матери, которое вернули верующим в 2014 году. К Чемпионату мира по футболу 2018 года Дом с часами покрасили со стороны улицы, но этой косметической мерой всё ограничилось.
В декабре 2018 года были утверждены параметры нацпроекта «Жильё и городская среда», предполагавшего массовую кампанию по расселению и сносу аварийного жилья. Над домом Кожевникова, потерявшим охраняемый статус, сгущались тучи...
Об интерьере и внутренних помещениях нет ни слова. Похоже, что автор не заходил внутрь подвергаемого экспертизе здания.
Итак, на основании приведённого выше монументального 4-страничного исследования, дом Кожевникова был исключён из списка объектов культурного наследия. К счастью, это не привело, как часто бывает, к немедленной его осаде недобросовестным застройщиком. Правда, в 2015 году в городскую администрацию было подано прошение об использовании соседнего участка (по адресу ул. Коммунистическая, 3) для возведения гостиницы. Но по какой-то причине договориться с властями коммерсантам не удалось. Строительство, впрочем, было всё равно начато, но его бросили, не возведя даже первый этаж. Покинутая стройплощадка и ныне соседствует с домом Кожевникова. Следующий за ней участок (ул. Коммунистическая, 1) занимает здание церкви Казанской иконы Божьей матери, которое вернули верующим в 2014 году. К Чемпионату мира по футболу 2018 года Дом с часами покрасили со стороны улицы, но этой косметической мерой всё ограничилось.
В декабре 2018 года были утверждены параметры нацпроекта «Жильё и городская среда», предполагавшего массовую кампанию по расселению и сносу аварийного жилья. Над домом Кожевникова, потерявшим охраняемый статус, сгущались тучи...